Евгений Озадовский: полиграфия для новичков. Часть 2
Каждый полиграфист немножечко графолог. «Печатная машина – как след протектора, как человеческий почерк. Новая, старая ли, она все равно оставляет характерные элементы, опознавательные признаки. Просто хорошенько рассмотрев печать, я могу увидеть особую точечку и понять: да, это моя коробка. С другой стороны, даже полиграфист не возьмется судить о подлинности продукта только по тому, насколько качественно напечатана упаковка. В двух разных магазинах один и тот же бренд может быть одет по-разному». WTP продолжает изучать «черный ящик» типографий с Евгением Озадовским, генеральным директором «Глобус Континенталь».
Точечки – они разные, они не бывают идеальными. Даже точка на стекле бывает ровной, а бывает такой, будто брошена капля. Отойдете на десять метров – будет уже неважно, клякса это или аккуратно нарисованный кружочек. Подойдете вплотную – увидите, что там вообще израильская звездочка, разноцветная внутри. Вот также в приближении можно распознать и свою упаковку – по знакомым дефектам печати.
У машины обязательно есть погрешность. Скажем, чуть подвирает какая-то секция: три цвета садятся идеально, а четвертый сдвинут на семь часов – и это видно только в микроскоп. Предположить, что у кого-то машина с такой же поломкой, сложно. Машины у всех разные, производителей в мире десятка два. Отличается и оттиск, и состояние машины, и технологии.
Но это не значит, что просто по печати можно отличить, настоящий продукт или поддельный. Во-первых, один и тот же бренд в разных магазинах может быть упакован в разные по качеству коробки. Тут вообще наблюдается некий хаос. Допустим, я – производитель конфет. Каждый квартал я провожу тендер, настроенный исключительно на льготные ценовые условия: выигрывает тот, у кого печать дешевле, а не тот, у кого производственные мощности больше или тот, кто долгов не имеет. Соответственно, каждый квартал упаковку для моих конфет где только ни печатают: в Москве, в Питере, в Прибалтике, в Польше, на Украине, в Казахстане, за Уралом. Оборудование – какое хочешь: новое, изношенное, русское, китайское… Ну и какую коробку считать эталоном?

Денис Владимирович
Самый распространенный способ защитить упаковку – это голограмма. С ней любая бабушка с полуметра видит, что лекарство как бы неподдельное. Впрочем, во времена Черкизона рулон любой голограммы стоил 50 баксов. Приходишь, заказываешь у китайцев, забираешь через неделю свой рулон – вот и вся защита.
Более сложные приемы – все эти тонкие линии, штрихи, защитные сетки и переливающиеся краски – интересно рассматривать, если точно знаешь, что хочешь увидеть. Если производитель специально защищает свою упаковку, он должен объяснить окружающим, как это проверить (читай, потратить деньги на информирование покупателей). Понадобятся ли какие-нибудь специальные инструменты – лупа, ультрафиолетовая лампа? Если да, есть смысл предоставлять их точкам сбыта. В принципе, на этом можно построить целую рекламную кампанию – это уже вопрос к маркетологам.
Правда в том, что любые защитные ухищрения помогают проверить подлинность коробки, прежде всего, самому поставщику: взяв коробку в руки, он сразу определит, своя она или чужая.
Во-вторых, упаковка просто могла полежать на солнышке и элементарно выцвести. Положишь ее на лоточек, солнышко утром пройдет – к вечеру коробка уже другая, если краска не солнцезащитная.
В полиграфии много таких нюансов. Мудрый человек всегда учитывает, какая судьба ожидает продукт. Если это продажа на улице – использует защищенную краску. А если хранение в морозильной камере – подберет правильный картон, который не размокает, отдавая влагу. И клей нужен соответствующий, который кристаллизуется до конца. Иначе в морозильной камере оставшаяся вода превратится в лед, а лед сделает «Пфф!» – и упаковка взорвется.
По идее, заботиться о таких вещах должен заказчик. У нас может попросту не хватить фантазии, чтобы все предусмотреть, – вдруг эти шоколадки отправят в космос или подводникам будут продавать. Идеально, когда обе стороны четко понимают, какого результата мы хотим: это называется технический диалог. Грамотные люди со стороны заказчика ставят условия транспортировки, эксплуатации, жесткости: понимают, что продукту предстоят агрессивные среды, что коробки будут класть в ящики, ящики – в палеты, палеты – в фуры и вести через всю страну, и тонкий картон невозможен – иначе доедет половина продукции. Наша задача – выполнить заказ в точности, ничего не придумывая.
С брошюрами и листовками, кстати, так никто не заморачивается. Там требования к качеству печати в разы отличаются от наших. В 70% случаев главное в рекламной полиграфии – дешевизна и оперативность. Оттенок цвета не так важен, если фотография привлекательна: покупатель не вернет пылесос, если в жизни тот окажется слегка темнее, чем на картинке. Поэтому печатник вряд ли будет тратить полтора часа на то, чтобы отмыть секцию, прежде чем краску загрузить.
В упаковке все строже – более серьезное отношение и к цветопередаче, и к материалу. Понятно, почему: чем желтее будет картон для упаковки косметической краски, тем большим сюрпризом для покупателя будет новый цвет волос.
Удержать тираж на одной линии невозможно. Он всегда чуть-чуть плавает, потому что машина нагревается. Одна палета большей влажности, другая – меньшей, значит, внутрь попадает больше краски, и печать получается бледнее. Такое цветовое отклонение по тиражу называется Дельта Е.
Есть клиенты, для которых этот вопрос принципиален. «Кока-кола», например, не может допустить, чтобы ее красный цвет был чуть краснее или бледнее. Или «Макдональдс»: его цвет по всему миру должен быть одинаковым. С ним мучились, подбирали, прописывали Дельту Е, а потом плюнули: есть готовая краска, называется «Макдональдс». У нее нет номера, ее специально делают на заводе, она одинаковая и для меня, и для сибирской типографии, и для зарубежья. Вместе с этой краской ты приобретаешь права на ее использование. В результате, куда бы ты ни приехал, ты везде встречаешь один и тот же стандартный цвет.
Среди наших клиентов таких щепетильных – процентов 20%. Одному не могли напечатать упаковку целый год. Покажи ее дизайнеру – даже не взглянет. Смотреть не на что: слово одного цвета – и крошечная буквочка «о» другого цвета. Все, больше на коробке ничего нет, а напечатать невозможно.
Этих букв «о» на огромном листе буквально 10 штук. Вы представляете себе долю миллиметра краски, которая попадает на лист, чтобы раскатать это «о»? Это не грамм даже – молекула. И вот когда ты шпаришь 15 000 листов в час, брызгает слишком маленькое количество краски, и ее некуда деть. Она шипит на валах, и ты хоть останавливай машину каждую минуту и вымывай. Получается, что краска через лист попадает на следующую секцию, а там лак, который к концу тиража становится уже не прозрачный, а розовый. Начинаешь печать – коробочка идеально белая. Через 15 минут она уже слегка розоватая, потом уже розовая. Начинаешь смывать секцию – а это полтора часа и выброшенная краска. Мучение натуральное – только через год нашли технологию, при которой можно сделать все качественно.
Несмотря на все трудности, заказчику не скажешь: «Ребят, сделайте-ка попроще!». Особенно если дело касается медицинской продукции. В этой сфере долго и сложно получают документы, тратят по полтора года на регистрацию препарата, и после того, как он зарегистрирован, уже нельзя ни на йоту отойти от принятого дизайна. Потому что это уже будет контрафакт – незарегистрированный медицинский продукт. При этом, хотя с дизайном в медицине никто не парится, печатать всегда тяжело.
На моей памяти только один раз предприятие пошло навстречу полиграфистам. У «Акрихина» был препарат, с которым больше года мучились все типографии. Наконец руководитель отдела снабжения понял, что дело все-таки не в подрядчиках. Собрали круглый стол. Мы объяснили, что заказ слишком сложен и технически некорректен, и что дизайнер упаковки был не прав. И нас услышали: компания потратила полтора года и кучу денег, чтобы перерегистрировать все препараты. Новый дизайн был сделан уже с учетом мнения полиграфистов.
Сейчас с этим проще – подтянулось поколение дизайнеров, которые прошли обучение в профильных вузах и представляет в общих чертах большую часть будущих технических проблем. Это 10 лет назад дизайнером считался инженер, художник или строитель, который по креативности душевной садился за CorelDRAW или Illustrator.












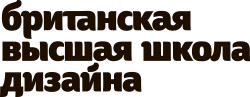

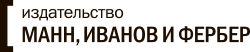


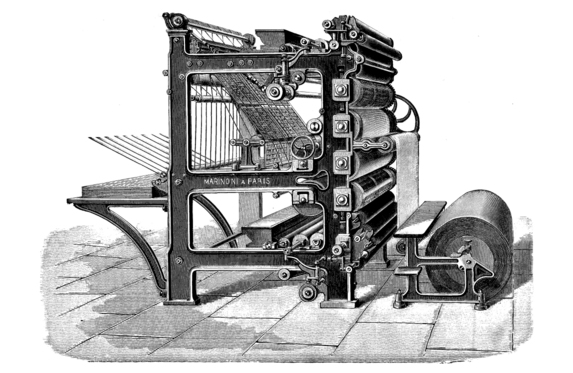

There are no comments
Add yours